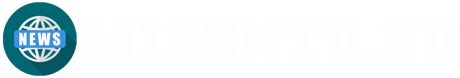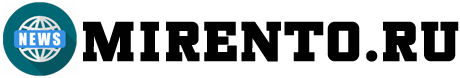Всюду грабежи и хаос: как современники вспоминали бегство белых из России
true true true Фронт разваливается на глазах, газеты врут, солдаты дезертируют, а власти первыми бегут из города — так выглядела последняя страница Белого движения в России. Формально Гражданская война закончится позже, но символом ее окончания стали несколько дней осени 1920-го, когда генерал Врангель объявил о сдаче Крыма и начал эвакуацию за границу. Вместе с ним страну навсегда покинули десятки тысяч человек на сотнях судов. Как запомнили «Великий исход» очевидцы и как история начала XX века трагически повторяется в другие эпохи и на других широтах — в материале «Газеты.Ru».
«Поперек тротуара лежит окровавленный труп, около него толпа. «Кто убит? За что?» Никто не знает… Некоторые магазины уже закрыты… Валюты нигде нет. За нее готовы отдать все… Рубль потерял всякую покупную способность», — так белогвардеец Александр Ланге описывал 30 октября 1920 года (по старому стилю) в Крыму — черную дату для Белого движения, день его окончательного падения.
К тому моменту красные давят врага со всех сторон. Крымский полуостров — последнее, что удерживает Русская армия (термин Белая армия, или белые, был популяризирован советской пропагандой, которая так подчеркивала связь своих противников с монархией. Сами белые называли себя Добровольческой, позже — Русской армией). На стороне новой власти несравнимо больше людей и ресурсов, но белое командование до последнего уповает на оторванность Крыма от Большой земли и укрепленные узкие перешейки. Последние укреплены скорее на словах — деньги на оборону разворованы, к приходу неприятеля ничего не готово, как позже жаловались в мемуарах современники со стороны белых.
«Оставшаяся одна в борьбе с насильниками, Русская армия ведет неравный бой, защищая последний клочок русской земли, где существуют право и правда», — красочно обрисовывал положение на фронте последний белый главнокомандующий, генерал Петр Врангель.
С этих слов 30 октября он начал приказ о всеобщей эвакуации из Крыма. Признание полного поражения. Бежать некуда — только за море, уповая на помощь соседей (при том, что «ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных», как уточнило белое правительство в другом официальном сообщении).
«Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет… Да ниспошлет Господь всем силы и разума одолеть и пережить русское лихолетье», — закончил Врангель свой короткий приказ.
Вместе с остатками войск он разрешил отплыть всем желающим, кто боялся прихода красноармейцев. Одновременно власти предупреждали, что на кораблях неизбежна «большая скученность», то есть давка, что у правительства не осталось ни копейки помочь будущим беженцам и что судьба их абсолютно неясна — но многие предпочли это встрече с большевиками. Начался Великий исход, как назовут его сочувствующие. Примерно за неделю полуостров покинули почти 146 тыс. человек на 126 судах.
«Брошенные кони, бредущие табунами; брошенные пушки, перевернутые автомобили, костры; железнодорожное полотно, забитое на десятки верст вереницами вагонов; разбитые интендантские склады, взрывы бронепоездов, беглецы, уходящие с нами; измерзшие дети, обезумевшие женщины, пожары мельниц в Севастополе… — зрелище эвакуации, зрелище конца мира, Страшного суда»,
— вспоминал те дни белый генерал-майор Антон Туркул.
Отступающие солдаты бросают даже винтовки. Какой-то ответственный юнкер-артиллерист по пути подбирает их и ломает, этот эпизод описал в своем дневнике служивший в пехотном полку Александр Судоплатов.
«Легко бьются винтовки. Винтовок так много, что он не успевает идти рядом с батареей и отстает от нее. Так он шел верст пять. До Севастополя еще верст двадцать пять».
Вокруг вспыхивают массовые грабежи. Грабит не только народ, но и военные, в опьянении от безвластия и неизвестности. Тот же Судоплатов видит, как растаскивают эшелон снабжения:
«Все бегут на станцию. Там полный грабеж. Тащат из вагонов обмундирование. К вагонам невозможно протиснуться. Из одного выбрасывают пачками ботинки, из другого мыло, из третьего консервы… Один схватил три ботинка и все на правую ногу. Другой — один левый… Я взял пару ботинок и повесил на пояс на всякий случай…
Приехал с позиции мотоциклист с донесением, бросил свою шинель на мотор. Публика до того разошлась, что утащили и его шинель».
Окружающие не стесняются армейских отрядов и на их глазах несут награбленное, а солдаты смеются над неуклюжими «бабами» с мешками сахара и коробками папирос. Никто из военных не пытается остановить разгул, вооруженные люди вмешиваются только, чтобы отогнать других от добычи.
Часть военнослужащих скидывает форму и переодевается в гражданскую одежду, «зипуны», чтобы смешаться с обычным населением. Так поступают и высокопоставленные чиновники, остающиеся на берегу. В самих управлениях и штабах без разбора жгут бумаги, случайно уничтожая ценные исторические документы.
«На углу стоит какой-то человек в картузе и поддевке. Вглядываюсь и узнаю одного из видных чиновников управления внутренних дел. Очевидно, решил остаться и на всякий случай перекрасился в защитный цвет», — иронизировал в мемуарах князь Владимир Оболенский.
«Все смешалось в России»
Интеллигентная часть армии и простонародная воспринимают поражение по-разному. Офицеры переживают происходящее как трагедию библейского масштаба. Некоторые из них, будучи образованными людьми своей эпохи, пишут пронзительные стихи об эвакуации. К примеру, стали широко известны строчки казачьего офицера Николая Туроверова о том, как он уплывает на корабле из Крыма, а его конь пытается вплавь догнать хозяина (сцену экранизировали в советском фильме «Два товарища»).
«Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня;
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня…»
В тоже время обычные солдаты, устав от войны, реагируют на все флегматично. Для них главное, что не надо больше убивать и мерзнуть в полях. Оболенский вспоминал, как в эвакуационном поезде до Севастополя столкнулся с такими «товарищами по одному из величайших несчастий, которые могут постигнуть человека» — они веселились и «балагурили как дети». Один из них объясняет князю, что «пора отдохнуть», ведь «навоевались досыта». О будущем бойцы также не тревожатся — авось прославленный Врангель «куда-нибудь доставит».
Действия последнего в критические месяцы последней «белой» осени современники оценивали по-разному. Сам «Черный барон», как его называли красные, позже утверждал, что и не планировал удерживать Крым, просто тянул время, подготавливая достойный отход. Однако Оболенский подчеркивает, что незадолго до приказа об эвакуации Врангель публично заявлял о неприступности полуострова и что его не под силу взять даже лучшим европейским войскам. На фоне повального дезертирства, отсутствия нормальных линии обороны, связи, снабжения белые власти до последнего убеждали население и иностранных союзников, что все под контролем, обвинял Врангеля военный журналист Григорий Раковский, переживший Гражданскую войну на Юге вместе с Белой армией.
«Даже в тот момент, когда началась катастрофа, вся европейская пресса, почти все заграничные русские газеты восхваляли Врангеля за его успехи. Лесть и ложь прикрывали собой развал фронта», — с горечью констатировал корреспондент.
Первыми бегут местные власти — накануне приказа Врангеля, вечером 29 октября журналисты приходят в Симферополе к белому губернатору Крыма Александру Лодыженскому и видят, что у него полным ходом идет эвакуация (хотя в тот же день начальник гарнизона говорит прессе, что причин для опасений нет). Слухи об этом разносятся по улицам, горожане в панике ночью бросают имущество и кто на грузовиках, кто на подводах, кто конный, а кто пеший бегут из города.
«В госпиталях стояли стоны и плач. Больные и раненые шли пешком к вокзалам…
Калеки ползли по земле, умоляя Христом Богом помочь им выбраться», — писал Раковский.
Атмосфера всеобщего помешательства и растерянности особенно накрывает Крым, когда беженцы грузятся на переполненные корабли. Лучше всего это описывал одним эпизодом генерал-майор Антон Туркул. В последний момент перед отплытием его верный, прошедший с ним бои шофер плачет и просит разрешения остаться — потому что на самом деле он большевик.
«Это признание как-то не удивило меня: чему дивиться, когда все сдвинулось, смешалось в России. Не удивило, … что большевик просит теперь у меня, белогвардейца, разрешения остаться у красных», — рассказывал Туркул.
Саму погрузку в нескольких портах и отплытие Врангель действительно проводит куда лучше, чем его предшественники. У белых за спиной уж есть трагичный опыт — разгромная эвакуация из Новороссийска весной 1920-го. Она стала одной из худших страниц Белого движения и похоронила карьеру его прошлого лидера, генерала Антона Деникина.
На этот раз военные и гражданские покидают родную землю спокойнее и организованнее. Однако и тут современники фиксируют трагические эпизоды: на борту Туркула совершает самоубийство один из офицеров, а раненые из последних сил «ползут на транспорт по канатам»; как беженцы лезут на корабли по канатам, видит и Судоплатов, народу в бухте «как мух», при этом на борт успевают поднять картины и прочие ценности «богачей»; на одном из судов с хозяевами отплывают даже свиньи, с другого парохода сбрасывают ящики со снарядами, чтобы вместить больше людей, отмечал Ланге. Он же рассказывал, как Врангель напоследок приказал уничтожить большую карту Крыма:
«Мне когда-то подарили эту карту, взять ее с собой я не могу и не хочу, чтобы она досталась этой сволочи, разрубите и сожгите ее». Карту с надписью «Нашему вождю от защитников Крыма 1920 года» вынесли из кабинета, и до самых сумерек по опустевшим комнатам дворца гулко отдавались удары шашек».
«Зачем все это было?»
Став первой в своем роде настолько хорошо задокументированной и известной историей, «Великий исход» белых из Крыма оказался предвестником и образцом судьбы совсем других армий. То, что записывали русские солдаты, будет повторяться снова, каждый раз, когда войска будут «эвакуироваться», а фактически бежать за границу из страны, которую хотели сделать своей, но борьбу за которую проиграли.
Через 55 лет на другом континенте, в совершенно другой политической обстановке удивительно до деталей отразятся крымские события. Только что власти заверяли, что все не так плохо, но вот военные оставляют последние рубежи обороны, а на улицах — всеобщая паника, мародерство, толпы простых людей, надеющихся попасть на эвакуационный транспорт.
«Бегство было жалким, пугающим… Проносились военные джипы с чиновниками, гражданские машины, набитые людьми и багажом, мотоциклы, перевозящие по пять человек — все в сторону набережной, в поисках корабля, лодки, чего-угодно, на чем можно уплыть. Войска стреляли поверх голов, но потому увидели, как их собственные сослуживцы запрыгивают в катера за их спиной, и тоже побежали с толпой к пирсу» .
Это Южный Вьетнам, 29 апреля 1975 года, накануне падения Сайгона. Хаотичное отступление последних американцев как символ краха США в этой стране было описано итальянским журналистом Тицианом Терцани. Он же рассказал о знакомой картине массовых и бессмысленных грабежей на улицах:
«Вентиляторы, люстры, даже электрические провода срывают с потолков и стен…
Среди криков, смеха и ругани время от времени звучат выстрелы… Я видел детей, которые падали, пытаясь тащить слишком тяжелые для них ящики пива; полицейских, помогавших друг другу снимать кондиционеры; калеку, ковылявшего с рулоном ковра; полковника на мотоцикле, держащего в руках бархатное кресло».
Другие очевидцы вспоминали, как в американском посольстве в это время жгли пачками деньги и бумаги, а солдаты Южного Вьетнама бросали свою форму прямо на дороге и переодевались в гражданское. Разве что военные теперь оставляли за собой не брошенных коней и разбитые орудия, а танки и машины, и отчаявшиеся горожане осаждали не корабли, а перегруженные самолеты и вертолеты (последние садились прямо на крыши, за выход на которые дрались и давали взятки).
«За два дня и две ночи около 6000 человек были эвакуированы американскими военными, а более 130 000 человек эвакуировались на лодках, вертолетах и самолетах южновьетнамской армии», — подытожил американский журналист Колин Макинтайр, в те дни работавший в Сайгоне.
Другой яркий пример спустя 46 лет знаком нашим современникам еще лучше — на этот раз армия под чужими флагами будет срочно покидать Кабул, а весь мир облетят кадры афганцев, бегущих за взлетающими самолетами. В посольстве вновь будут жечь секретные документы, врагу вновь попадет в руки оставленное оружие, а больше всего вновь пострадают простые гражданские, не успевшие на борт отходящего транспорта.
Делясь с репортерами воспоминаниями тех лет, некоторые американские солдаты, сами того не зная, фактически вторили последним бойцам Русской армии. Которые, глядя на эвакуацию, задавались вопросом — к чему была война, которая так бесславно закончилась.
«30 апреля 1975 года я был уже в тылу. Меня будто молния ударила, когда кто-то зашел в мой офис и сказал, что Сайгон пал…
я отпросился у босса, пришел домой, обнял жену и задал один вопрос: «Зачем все это было?»
— рассказывал ветеран Вьетнамской войны, капитан Джозеф Боссия.
Что думаешь? Комментарии